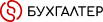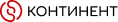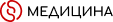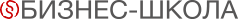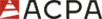| ||||||||||||||||||||
|
|
Новая роль судьи при производстве полицейского расследования в уголовном процессе постсоветских государств[1]
Головко Л.В., доктор юридических наук, профессор юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. (Москва, Россия)
1. Концептуальные основы разграничения судебных и полицейских функций в уголовном процессе
В ходе реформирования постсоветских уголовно-процессуальных систем основное внимание было до настоящего времени уделено, главным образом, разграничению функций обвинения, защиты и разрешения дела и вытекающему из него освобождению суда от несвойственных ему обвинительных функций. В результате, в большинстве постсоветских государств удалось более или менее успешно избавиться от ряда советских уголовно-процессуальных рудиментов (скажем, возбуждения уголовного дела судом), а там, где данные рудименты все еще по каким-то причинам сохраняются, существует едва ли не единодушное доктринальное мнение о необходимости их скорейшего упразднения. Но сосредоточившись на разграничении функций обвинения, защиты и разрешения дела, реформаторы несколько упустили из вида, что современный уголовный процесс функционально не сводится исключительно к названным направлениям деятельности. Он представляет собой много более сложную систему, особенно в том, что касается «государственного сегмента» уголовно-процессуального механизма. Забвение данного постулата не позволило удовлетворительно решить проблему «досудебного производства» на постсоветском пространстве и окончательно перевести уголовный процесс постсоветских государств из «переходного состояния» в состояние, характерное для развитых правопорядков. Учитывая, что уголовный процесс имеет публично-правовую природу и неизбежно строится вокруг деятельности государства, обладающего, как известно, неограниченными властными полномочиями, здесь столь же необходимо «уголовно-процессуальное разделение властей», что и на общеконституционном уровне. Иначе говоря, государственная деятельность в уголовном процессе должна иметь строго установленные «институциональные ограничители» и обладать внутрисистемной функциональной дифференциацией, когда институциональный уровень того или иного типа задействованных в уголовном процессе государственных органов определяет объем характерных для данного типа органов полномочий, что и образует «внутреннее» (для государственного механизма) разграничение уголовно-процессуальных функций, существующее наряду с «внешним» его разграничением в духе «обвинение vs защита». При этом подчеркнем еще не до конца понятую на постсоветском пространстве, но очень важную мысль: любое разграничение исходящих от государства уголовно-процессуальных функций будет теоретически оправданным только в том случае, если оно основано на различии в институциональной природе (нередко отраженной в правовом смысле на конституционном уровне) соответствующих органов, иначе речь всего лишь идет о техническом «распределении обязанностей». Так, например, МВД состоит из массы департаментов и отделов, каждый из которых выполняет какие-то свои функции, однако распределение функций является здесь сугубо «техническим», поскольку не имеет никаких институциональных корней - полицейский остается по своему статусу полицейским, как бы ни назывался департамент, в котором он проходит службу. Если рассуждать уже более конкретно, то «государственный сегмент» современного уголовного процесса строится вокруг разграничения полицейских, прокурорских и судебных функций. Данное разграничение является фундаментальным, поскольку, строго говоря, никаких иных государственных функций в уголовном процессе и быть не может.[2] При этом разграничение данных функций определяет не только объем процессуальных полномочий соответственно полиции, прокуратуры и суда в позитивном смысле, но и ограничения их компетенции в негативном смысле, то есть те действия и решения, которые они не могут совершать и принимать ex natura sua. Функции полиции, являющейся представителем одного из тех подразделений исполнительной власти (как бы они ни назывались), в обязанности которых входит силовое поддержание общественного порядка, может сводиться в уголовном процессе исключительно к а) физическому пресечению преступной деятельности и б) квалифицированному собиранию доказательственных сведений о гипотетических преступлениях. При этом только при выполнении первой из названных функций полиция вправе ограничивать на очень непродолжительное время, исчисляемое часами, конституционные права личности (в данном случае на физическую свободу). При собирании доказательств такого права у полиции уже нет. Более того, уголовно-процессуальная деятельность полиции не является в строгом смысле деятельностью юридической, то есть сопряженной с применением права, его толкованием и т. д. Полицейский, будучи сыщиком, а не юристом, должен не «применять право», а неукоснительно следовать инструкции, роль которой выполняет соответствующий раздел уголовно-процессуального закона или даже специальная инструкция для «чинов полиции», изданная соответствующим ведомством во исполнение закона. В такой ситуации становится ясно, что уголовно-процессуальная деятельность полиции (как «силового» ведомства) может быть эффективной и безопасной для добропорядочных граждан только в том случае, когда она введена в жесткие функциональные рамки, сопряженные с отсутствием у полиции следующих прав и полномочий: а) права самостоятельно применять любые формы ограничения свободы или, иначе говоря, «меры процессуального принуждения» (включая так называемые «альтернативные»), кроме кратковременного полицейского задержания, исчисляемого часами[3]; б) права самостоятельно производить следственные и подобные им действия по собиранию доказательственной или любой иной информации, сопряженные с ограничением фундаментальных (конституционных) прав и свобод личности[4]; в) права давать запрещенному законом деянию, по которому полиция проводит расследование, официальную уголовно-правовую оценку, то есть, иначе говоря, права самостоятельно осуществлять уголовно-правовую квалификацию деяния и составлять по этому вопросу какие-либо официальные правоустанавливающие акты, как бы они не именовались[5]. Функции прокуратуры, о которых мы упомянем здесь лишь мимоходом, определяются более высоким институциональным статусом прокурора по сравнению с полицейским - статусом, имеющим подчас конституционно-правовой уровень. В некоторых уголовно-процессуальных системах (Франция, Италия и др.) прокурор рассматривается даже как «магистрат», то есть лицо, пусть и не являющееся судьей, но входящее наряду с последним в единый корпус магистратуры и обладающее в силу этого немалой степенью институциональной независимости. Как бы то ни было, но прокурор - это уже не «сыщик», а подлинный правовед, призванный осуществлять правоприменение, толковать нормы права, оценивать наличие или отсутствие в уголовном преследовании публичного интереса, представлять в ходе уголовного процесса государство и общество и т. д. Уголовно-процессуальные полномочия прокурора в ходе досудебного производства по уголовному делу (в судебном производстве он - обвинитель) определяются его ролью «фильтра» между полицией с ее в большей мере неюридическими (техническими) функциями по собиранию доказательственной информации и судом, стоящим на вершине правоприменения. С одной стороны, прокурор контролирует полицию (говоря советско-постсоветским процессуальным языком, «надзирает» за ней) как с точки зрения эффективности расследования и защиты публичного интереса, так и с точки зрения гарантий прав личности (факультативно, о чем см. далее). С другой стороны, он «процессуализирует» и «юридизирует» собранную полицией информацию и решает вопрос о передаче дела в суд. Именно прокурор дает деянию официальную уголовно-правовую оценку (по итогам и с учетом полицейского расследования), то есть квалифицирует его по нормам материального уголовного права. Именно он вправе инициировать применение так называемых «альтернатив уголовному преследованию», включая уголовно-правовую медиацию и т. д. При этом «юридизация» и «процессуализация» прокурором материалов полицейского расследования, сопряженная с официальным выдвижением обвинения, может иметь характер как окончательный, когда дело передается в суд для рассмотрения по существу, так и промежуточный, когда прокурор обращается в суд за применением соответствующей меры пресечения или разрешением на производство соответствующего следственного действия. Функции суда определяются конституционно-правовым статусом судебной власти, с одной стороны, призванной быть гарантом прав и свобод личности, а, с другой стороны, являющейся единственным инструментом окончательного разрешения всех правовых споров. В более технической плоскости полномочия в уголовном процессе суда нередко устанавливается не позитивно (путем определения некоей исчерпывающей компетенции), а негативно (путем возложения на него тех функций, которые не вправе в силу их институциональной природы выполнять полиция и прокуратура). Иначе говоря, если соответствующее действие, скажем, прослушивание телефонных переговоров или производство обысков в жилище, совершенно необходимо для эффективного функционирования системы уголовной юстиции, но при этом ни полиция, ни прокуратура не вправе самостоятельно ограничивать право граждан на неприкосновенность частной жизни или на неприкосновенность жилища (в противном случае мы окажемся в «полицейском государстве»), то единственным выходом является возложение данного полномочия на суд. Если же не менее необходимое для системы уголовной юстиции действие, скажем, производство экспертизы[6], не требует ограничения ничьих конституционных прав, то нет никакого резона обременять суд дополнительными функциями в виде «санкционирования экспертиз» и т. д. В такой ситуации, если рассматривать только досудебное производство и не затрагивать вопросы разрешения уголовных дел по существу, то, во-первых, становится ясно, что в любой развитой современной уголовно-процессуальной системе к исключительным полномочиям суда относится: а) принятие решений о применении любых форм ограничения свободы или, используя советско-постсоветскую терминологию, «мер уголовно-процессуального принуждения», сопряженных с какими бы то ни было ограничениями любых прав и свобод лица (от заключения под стражу до принудительного привода), включая так называемые «альтернативные меры пресечения» (подписка о невыезде, залог и т. д.)[7]; б) дача разрешения на производство следственных и подобных им действий по собиранию доказательственной или любой иной информации (как бы они формально не назывались), сопряженных с ограничением фундаментальных (конституционных) прав и свобод личности. Именно данными полномочиями судебной власти, основанными не на казуистическом толковании нормативных текстов или «жонглировании» национальной уголовно-процессуальной терминологией, а на конституционно-правовой роли суда как гаранта индивидуальных прав и свобод, определяются в современных правопорядках пределы так называемого «предварительного судебного контроля» (судебного контроля a priori). Во-вторых, также становится ясно, что любые правовые споры между государством и участвующими в досудебном производстве частными лицами должны также решаться судом, что вытекает из фундаментального принципа права на судебную защиту (права на «доступ к судье»). При этом, чем более сложным и формализованным в «континентальном духе» является полицейское расследование, чем больше в ходе его производства принимается официальных процессуальных решений и составляется официальных процессуальных актов, тем шире должны быть корреспондирующие права участников процесса по обжалованию данных процессуальных решений и актов в суд. Здесь важно понять, что предоставление права на обжалование того или иного несудебного процессуального решения должно оцениваться именно через призму принципа «права на доступ к судье». Если, например, то или иное полицейско-прокурорское решение направлено именно на передачу дела в суд, на движение дела в сторону судебного разбирательства, то нет никакого смысла разрешать его отдельное судебное обжалование - оно лишь затянет процесс рассмотрения судом по существу соответствующего обвинения. Если же решение, напротив, «блокирует» доступ в суд для проведения судебного разбирательства, то оно должно подлежать безусловному судебного обжалованию, иначе лицо лишается права на судебную защиту. В несколько иной плоскости существует другая закономерность: те уголовно-процессуальные системы, которые предоставляют полиции гипертрофированные функции, скажем, по применению мер пресечения и в которых судебный контроль a priori находится еще в «зачаточном» состоянии, должны в качестве «компенсации» предоставлять адекватные возможности по обжалованию в суд соответствующих полицейских действий и решений. С развитием судебного контроля a priori «судебное обжалование» как таковое теряет смысл и уступает месту инстанционному пересмотру вышестоящими судами соответствующих судебных решений, принятых в порядке «предварительного судебного контроля». Таковы в очень кратком и схематичном изложении основные теоретические подходы к определению пределов так называемого «последующего судебного контроля» (судебного контроля a posteriori), необходимость обеспечения которого также приводит к появлению у суда в уголовном процессе новых функций и задач. Выше шла речь о таких функциях суда в уголовном процессе, которые можно считать универсальными, поскольку они присущи mutatis mutandis всем развитым современным правопорядкам, невзирая на то, привержены ли исторически последние континентальной или англосаксонской процессуальной традиции. Наличие у судебной власти в уголовном процессе универсальных функций не исключает появление у нее функций специальных, характерных не для всех, но лишь для некоторых процессуальных систем. Хрестоматийным примером здесь является так называемая французская «наполеоновская» система уголовного процесса, возлагающая на судебную власть, помимо прочего, функцию предварительного следствия, производимого специальным следственным судьей (juge d’instruction). Данная система оказала в свое время огромное влияние на многие континентальные правопорядки, в том числе на право Российской империи (институт судебного следователя), что не в последнюю очередь объясняет существенные советско-постсоветские деформации институционального каркаса уголовного процесса, к чему нам еще предстоит вернуться. Однако, современная тенденция в большей мере направлена на модификацию классической французской модели и превращение «следственного судьи» (juge d’instruction) в «судью над следствием» (juge de l’instruction). Это проявляется в передаче сугубо следственных полномочий в руки полиции и прокуратуры с сохранением за «судьей над следствием» исключительно судебно-юрисдикционных полномочий, то есть по сути судебного контроля a priori и a posteriori. Ясно, что модель «судьи над следствием» более универсальна со сравнительно-правовой точки зрения и, по сути, мало чем отличается от модели «судебного контроля», характерной для большинства стран, в том числе англосаксонской процессуальной традиции. Единственное более или менее существенное отличие - явно выраженаая специализация «судьи над следствием», которой нет в модели «судебного контроля», осуществляемом рядовым судьей. Обратим также внимание на появление у судей новых специальных функций и в сугубо доказательственной сфере, что несколько выходит за рамки традиционного понимания судебного контроля. Речь идет о попытках законодателей ряда стран решить проблемы, связанные со строгим следованием принципу непосредственности судебного разбирательства и правилу об абсолютной доброкачественности исключительно судебных доказательств. Полицейские доказательства, как известно, изначально являются несколько процессуально ущербными и не способны гарантированно обеспечить задачи уголовно-процессуального доказывания. В то же время свидетели по делу не всегда могут месяцами ждать судебного рассмотрения сложного дела, особенно когда речь идет, допустим, об иностранных туристах или больных людях преклонного возраста. В качестве способа решения данной проблемы многие национальные правопорядки предложили институт судебного закрепления доказательств в ходе полицейского расследования, когда полицейско-прокурорские органы просят суд произвести в ходе расследования допрос того или иного лица.[8] Полученные показания рассматриваются как судебное доказательство, соответствующее принципу непосредственности, поскольку лицо допрошено не полицией, а судом. При использовании в ходе судебного доказывания такое доказательство ничем не отличается от тех показаний, которые даны непосредственно в ходе судебного следствия при проведении судебного разбирательства. Данный пример показывает, что функции суда в уголовном процессе есть категория не статическая, но динамическая. При этом динамика их развития, безусловно, должна быть предопределена функциональной и институциональной логикой конкретно взятой уголовно-процессуальной системы.
2. Преодоление постсоветских деформаций и новые задачи суда на постсоветском пространстве
Если российское имперское уголовно-процессуальное право при всех его недостатках развивалось с 1864 по 1917 гг. в русле западной концептуальной традиции новейшего времени, предусматривая, что особенно важно, достаточно внятное отделение друг от друга функций полиции, прокуратуры и суда, то советское право данную конструкцию фактически полностью разрушило, причем разрушило не только на нормативном, но и на сугубо доктринальном уровне. В результате указанные функции оказались в советском уголовном процессе смешаны, что проявилось, прежде всего, в маргинализации роли суда и одновременном возвышении полиции, превратившейся едва ли не в ключевого «правоприменителя», по крайнем мере в досудебном производстве. Такая уголовно-процессуальная трансформация вполне соответствовала политической логике тоталитарного государства, но с логикой государства правового она совершенно несовместима и в условиях последнего приводит к очевидному «институциональному краху», в чем мы убедились на примере многих постсоветских государств. Говоря чуть конкретнее, советское право на заре своего существования сняло в рамках уголовно-процессуальной системы все «институциональные ограничители», что позволило без малейших затруднений перекладывать на полицию и прокуратуру такие функции, которые им генетически свойственны быть не могут (см. выше) и в нормальной ситуации требуют обязательного судебного вмешательства. Поначалу такого рода «свободное» (от институциональных ограничителей) перемещение функций от суда к полиции и прокуратуре коснулось всех стадий уголовного процесса, включая стадию судебного разбирательства (знаменитые «тройки» в 1930-е годы и т. д.). В постсталинский период произошла определенная институциональная «нормализация», связанная с умеренным стремлением восстановить утраченные ценности, но затронула она исключительно судебные производства (принцип осуществления правосудия только судом и т. д.) при минимальной модификации производств досудебных. С одной стороны, это позволило восстановить функциональную логику в стадии судебного разбирательства, где советское влияние ощутимо, но преодолимо без неимоверных сложностей, что видно на опыте тех же постсоветских государств. С другой стороны, постсталинские реформы фактически обошли стороной с функциональной точки зрения досудебное производство, чем не только усугубили кризис, но и легитимировали сконструированную в 1920-1930-е годы модель, превратив ее из «сталинских извращений» в едва ли не технически нейтральную советскую «модель предварительного расследования». В итоге, во-первых, в рамках советского предварительного расследования применение мер процессуального принуждения и принятие решений о совершении следственных действий, затрагивающих фундаментальные права личности, оказались исключительной прерогативой полицейско-прокурорских органов. Иными словами, часть исконно судебных функций перешло к прокурору (санкционирование ареста, обыска в жилище и т. д.), который стал восприниматься основным гарантом прав и свобод в духе теории «надзора», а часть - непосредственно к полиции (решение о принудительном приводе, подписке о невыезде и т. д.). Более того, советское право не предоставляло участникам процесса никаких возможностей судебного контроля a posteriori за действиями и решениями полиции или прокурора. Иными словами, суд в ходе советского предварительного расследования не обладал ни одним из тех своих универсальных полномочий, которые присущи всем развитым правопорядкам. Во-вторых, и здесь мы уже сталкиваемся с проблемой специальных судебных полномочий, советское право отчасти унаследовало ту техническую конструкцию предварительного следствия, которая создавалась в Российской империи, где предварительное следствие относилось, напомним, к полномочиям судебной власти (в лице судебного следователя). Однако, данная конструкция, замысленная в рамках судебного предварительного следствия, оказалась лишена главного институционального элемента - судебной составляющей. По сути, судейские полномочия судебного следователя, заимствованные из французского уголовного процесса, оказались переданы в руки полиции (следователя МВД, КГБ и т. д.). Возник разрыв между функциональным построением предварительного следствия и институциональной природой органа, его производящего. Границы между судебной и полицейской деятельностью оказались окончательно стерты, а полиция получила в свои руки не только право совершать действия, ограничивающие права и свободы личности, но и весь технический набор судейских функций (право на юридическую оценку деяния, его квалификацию, составление официальных правоустанавливающих актов, рассмотрение вопроса о гражданском иске и т. д.). Более того, с учетом провозглашенного в 1920-е годы лозунга о «стирании граней между дознанием и следствием», если уровень следствия был «понижен» с судебного до полицейского, то уровень дознания был, напротив, «повышен» до уровня следствия, то есть вместе с последним приобрел исконно судебные черты. Так дознание и следствие «соединились» где-то в «функциональной середине» (оба сохранив при этом свои полицейские черты) и так возникло знаменитое советское «предварительное расследование». Столкнувшись с полным поглощением полицией всего досудебного производства и пытаясь противостоять неизбежному в такой ситуации «институциональному полицейскому хаосу», советское право отреагировало путем внутренней процессуализации и дифференциации полицейской деятельности, то есть, по сути, путем максимальной бюрократизации полицейского производства, создав тем самым систему «институциональных ограничителей» sui generis. В результате появились институты «возбуждения уголовного дела», «дознания» и «предварительного следствия» как двух форм «предварительного расследования», «органа дознания», «дознавателя» и «начальника органа дознания» (ныне даже «руководителя подразделения дознания»), «начальника следственного отдела» и т. д., и т. п. Чуть позже возникло дальнейшее разграничение полицейской деятельности в рамках раскрытия преступлений на деятельность «процессуальную» (предварительное расследование), регулируемую уголовно-процессуальным законом, и деятельность «непроцессуальную» (оперативно-розыскную), регулируемую специальным законом об оперативно-розыскной деятельности. Таково, не вдаваясь более в детали, процессуальное наследие, доставшееся постсоветским уголовно-процессуальным системам от советского права. Надо признать, что постсоветские реформаторы не только ничего здесь не сумели нормализовать в институциональном плане, но еще более усугубили ситуацию, особенно в части создания двух «параллельных» и якобы незвисимых друг от друга систем - «процессуального» предварительного расследования и «непроцессуальной» оперативно-розыскной деятельности. В такой ситуации перед большинством постсоветских государств возникают следующие стратегические задачи, касающиеся роли суда в досудебном производстве по уголовным делам: 1) разграничить, в том числе для начала на сугубо доктринальном уровне (de lege ferenda), уголовно-процессуальные функции (полномочия), являющиеся по своей институциональной природе исключительно судебными, и уголовно-процессуальные функции (полномочия), являющиеся по своей институциональной природе исключительно полицейскими; 2) установить «институциональные ограничители» полицейской деятельности (о них см. выше), определяющие в классическом европейском русле пределы прав полицейской власти в ходе расследования уголовных дел, что неразрывно связано с задачей по разграничению судебных и полицейских функций; 3) отказаться от искусственной бюрократизации и дифференциации советского происхождения единой по своей институциональной природе уголовно-процессуальной полицейской деятельности по расследованию уголовных дел, то есть отказаться от разграничения «предварительного расследования» и «оперативно-розыскной деятельности», «дознания» и «предварительного следствия» и т. д., сконструировав на доктринальном и нормативном уровнях единое понятие полицейского расследования; 4) полностью интегрировать в уголовно-процессуальную ткань все виды оперативно-розыскных мероприятий через процессуальную конструкцию «специальных средств расследования» или «специальных следственных действий»[9], в том числе путем включения (кодификации) законов об оперативно-розыскной деятельности в текст уголовно-процессуальных кодексов (УПК); 5) предусмотреть для полицейского расследования единые современные стандарты судебного контроля a priori и a posteriori. Решение указанных стратегических задач является весьма сложной проблемой для любого постсоветского государства, поскольку требует не только радикального пересмотра действующей нормативной модели досудебного производства по уголовным делам, сохранившейся mutatis mutandis с советских времен, но и изменения многих устоявшихся в течение десятилетий доктринальных представлений постсоветских юристов. Поэтому в ближайшей перспективе необходимо также сосредоточить усилия на решении более локальных (промежуточных) задач, позволяющем заметно нормализовать советско-постсоветскую модель досудебного производства и подготовить почву для решения задач стратегических. Речь, в частности, идет о следующих неотложных задачах, рассчитанных на ближайшую перспективу и не требующих радикального пересмотра нормативной модели досудебного производства: 1) обеспечить принципиально одинаковый уровень судебного контроля (a priori и a posteriori) как для уголовно-процессуального предварительного расследования, так и для «непроцессуальной» оперативно-розыскной деятельности[10]; 2) предусмотреть судебный контроль a priori в отношении любых уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных действий и мер, ограничивающих фундаментальные права личности - право на физическую неприкосновенность, право на неприкосновенность личной жизни, право на неприкосновенность жилища, право на тайну корреспонденции и др., отталкиваясь при этом не от «исчерпывающего стандартного списка» действий и мер, требующих судебного санкционирования, а от современного международно-правового понимания объема защищаемых ценностей (критерий судебного санкционирования - это не изменчивая техническая процедура того или иного действия, а объект, на который оно направлено)[11]; 3) предусмотреть судебный контроль a posteriori в его современных и рациональных формах и с учетом, прежде всего, обязанности любого государства обеспечить соблюдение фундаментального «права на доступ к судье»; 4) обеспечить судебный контроль за применением любых мер пресечения, включая так называемые «альтернативные», причем независимо от того, сопряжены они или нет с предварительным полицейским задержанием, в силу чего любое полицейское задержание должно приводить либо к освобождению лица по истечении нескольких часов без применения меры пресечения (с правом требовать возмещения государством вреда за необоснованное задержание), либо к доставлению лица в суд для решения вопроса о наличии оснований для применения меры пресечения, включая заключение по стражу.
3. Соотношение судебного контроля и прокурорского надзора
Проблему соотношения судебного контроля и прокурорского надзора за деятельностью органов следствия, дознания и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, то есть за деятельностью полицейских органов, следует анализировать в двух аспектах. С одной стороны, с точки зрения универсальной тенденции неуклонного вытеснения прокурорского надзора судебным контролем в «зонах» их соприкосновения, прежде всего, имея в виду обеспечение гарантий прав личности и индивидуальных свобод. С другой стороны, с точки зрения необходимости поиска новых теоретических критериев размежевания компетенции суда и прокуратуры, позволяющих не создавать здесь нерациональный конфликт интересов, четко определив на техническом уровне пределы «судебной власти» и пределы «прокурорской власти» в досудебных стадиях уголовного процесса.
а) вытеснение прокурорского надзора судебным контролем в сфере защиты прав личности Исторически и судья, и прокурор вышли в континентальной Европе из единого корпуса «магистратов»[12], обладающих определенной степенью автономии и независимости. В силу этого если в судебных (окончательных) стадиях уголовного процесса их компетенция была разграничена достаточно четко, в досудебных (предварительных) стадиях она не могла не пересекаться, поскольку не только судья, но и прокурор выполняли в определенной мере магистратскую функцию «защитника» прав и свобод. СССР, сохранив континентальное понятие «прокурора», наполнил его новым гипертрофированным содержанием, в силу чего здесь речь шла даже не о «пересечении» судебных и прокурорских функций в уголовном процессе, а о полном вытеснении судебного контроля прокурорским надзором. Как бы то ни было, опуская разнообразные исторические и сравнительно-правовые детали, в последнее время даже в странах, никогда не испытывавших влияние советского права с его «прокурорским эксцессом», наметилась новая тенденция - понимание разного институционального уровня суда и прокуратуры, не позволяющего им, невзирая ни на какие общие конструкции «магистратуры», обеспечивать права и свободы личности с одинаковой степенью эффективности. В такой ситуации суд, обладающий не только «внешней», но и «внутрисистемной» независимосью, институционально много более приспособлен для осуществлении функции обеспечения гарантий индивидуальных прав личности, нежели прокуратура, построенная на строго иерархических началах и чаще всего прямо подчиненная правительственной или президентской власти. Иначе говоря, прокуратура недостаточно независима для обеспечения подлинно эффективного контроля за соблюдением полицейскими органами прав личности, в силу чего судебный контроль в любом случае является здесь более предпочтительным, нежели прокурорский надзор. Данная позиция выражена, в частности, в некоторых новейших решениях Европейского суда по правам человека в Страсбурге. При таком подходе любые формы «прокурорского (несудебного) санкционарования» полицейских уголовно-процессуальных или оперативно-розыскных действий, ограничивающих фундаментальные права личности, следует рассматривать не как концептуальное решение современного законодателя, имеющее глубокие теоретические корни, а исключительно как дань некоей традиции - пока еще «дань» допустимую, но постепенно уходящую. Если проиллюстрировать подход к соотношению судебного контроля и прокурорского надзора в сфере гарантий прав личности, используя эмпирический опыт стран, входящих в Совет Европы,[13] - стран, среди которых, как известно, встречаются представители самых разнообразных правовых традиций, то существует перечень действий, абсолютно во всех странах санкционируемых судом. К ним относятся следующие оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные действия[14]: - прослушивание телефонных переговоров (включая перехват фактов); - перехват иных сообщений, включая электронные и СМС; - контроль входящих и исходящих звонков (без раскрытия их содержания); - аудио или видеоконтроль в частных помещениях (квартиры, офисы и т. д.), то есть контроль не «переговоров», а «разговоров»[15]; - тайный осмотр или обыск частных помещений[16]; - вскрытие и осмотр почтовой корреспонденции; - контроль за компьютерным трафиком; - контроль за финансовыми трансакциями или доступ к информации по финансовым счетам. Существуют также действия, которые в большинстве стран Совета Европы предусматривают судебное санкционирование, но в некоторых - все еще сохраняют допусимость прокурорского санкционирования. К ним относятся следующие оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные действия: - фотографирование или видеозапись в публичных или открытых местах (на улице и т. д.); - запись разговоров в публичных или открытых местах; - учет корреспонденции без вскрытия ее содержания; - использование электронных средств наблюдения, позволяющих установить местонахождение лица; - контрольная закупка; - симуляция дачи или получения взятки (оперативный эксперимент); - оперативное внедрение агентов. Как видно, со сравнительно-правовой точки зрения, в рамках Совета Европы не осталось ни одной страны, где прокурорское санкционирование следственных и (или) оперативно-розыскных действий, ограничивающих конституционные права и свободы личности, доминировало бы над судебным санкционированием. Тенденцией является неуклонное вытеснение здесь прокурорского надзора судебным контролем, а сохраняющаяся в некоторых странах компетенция прокуратуры в сфере защиты прав личности является достаточно узкой и объясняется скорее историческими, нежели теоретическими, причинами. Другое дело, что общей тенденцией является также превращение во многих странах прокуратуры в «фильтр» между полицией и судом, создающий некий «двойной заслон»: полиция не вправе в такой ситуации напрямую обращаться в суд за решением об аресте или обыске в жилище - для обращения полиции в суд требуется также согласие прокурора. Однако, в данном случае речь идет не о конкуренции прокурорской и судейской компетенций, которая нас интересует в рамках настоящего анализа, а о сложении компетенций, что является отдельной проблемой.
б) в поисках теоретического критерия размежевания судебного контроля и прокурорского надзора в досудебном производстве по уголовным делам Представляется, что правильное теоретическое обоснование разграничения судебного контроля и прокурорского надзора в ходе полицейского расследования должно лежать в области не предметного, но целевого критерия. Иными словами, необходимо правильно отделить друг от друга судебный контроль и прокурорский надзор с точки зрения целей их осуществления. Целью судебного контроля является защита индивидуальных прав и свобод. В данной сфере прокурорский надзор не может быть самодостаточен, то есть он должен рассматриваться исключительно в качестве субсидиарного средства защиты прав личности в духе отмеченной выше теории «фильтра», «двойного заслона» и т. д., но не в качестве средства основного. Иными словами, любое ограничение фундаментальных прав личности в полицейских стадиях уголовного процесса всегда требует судебного вмешательства (контроля) - никаких исключений в сторону «прокурорского санкционирование» здесь быть не может. Целью прокурорского надзора является защита публичного интереса в духе «контроля эффективности». В данной сфере нет никаких оснований для присутствия суда, которому совершенно нечего делать в уголовном процессе, если там не затрагиваются вопросы индивидуальных прав и свобод. Иными словами, любое «прокурорское санкционирование» должно исходить из логики охраны публичного интереса, когда возникает риск неоправданного попрания последнего органами полиции. В такой ситуации взятие лица под стражу в качестве меры пресечения, например, требует безусловного судебного решения, тогда как для освобождения лица из-под стражи, напротив, может быть достаточно прокурорского санкционирования, поскольку в последнем случае риск возникает не для индивидуальных прав и свобод, а для публичного интереса (неоправданное освобождение опасного для общества преступника). Для постсоветских уголовно-процессуальных систем на данном этапе все еще, разумеется, больше характерен «перекос» в сторону прокурорского надзора, когда прокурор санкционирует действия, ограничивающие права и свободы личности, что должно быть исключительной прерогативой суда. Но встречаются и обратные ситуации неоправданного расширения судебного контроля, становящегося «контролем эффективности», когда суд без малейших на то теоретических оснований превращается в защитника «публичного интереса», что должно оставаться прерогативой уже прокурора. В качестве характерного примера приведем новейшие изменения уголовно-процессуального законодательства Молдовы, России и Украины, в соответствии с которыми полномочие санкционировать по инициативе следователя так называемую «выемку предметов и документов, составляющих государственную тайну», передано от прокурора суду.[17] Но при чем здесь суд? Почему суд должен определять, допустимо ли изымать и тем самым предавать возможной огласке какие-то секретные документы? Ясно, что «санкционирование» данного действия представляет собой средство предотвращения неоправданной утечки государственных тайн, что абсолютно не связано с правами и свободами личности. Речь идет о защите сугубо публичного интереса, на страже которого должен стоять именно прокурор, а не суд - противное противоречит не только процессуальной логике, но и элементарному здравому смыслу. Более того, санкционирование «выемки предметов и документов, составляющих государственную тайну», по сути, превращает суд в элемент государственной бюрократической машины, что просто-напросто опасно для идеи правосудия. Здесь постсоветские законодатели проявляют не столько «уголовно-процессуальный либерализм», сколько непонимание природы и целей деятельности в уголовном процессе как суда, так и прокурора. Однако, если изменить ситуацию и представить себе появление в постсоветском уголовном процессе специальной процедуры раскрытия в ходе досудебного производства составляющих государственную тайну сведений по инициативе защиты (когда это необходимо, допустим, для доказывания невиновности лица), то тогда такого рода вопросы должен уже рассматривать не прокурор, а суд, выступая гарантом интересов личности, противостоящей государству. Здесь включается совершенно иная целевая уголовно-процессуальная логика, исключающая возможность прокурорского надзора и требующая вмешательства суда. Таким образом, только при четком осознании целей деятельности судьи и прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса можно найти рациональный баланс между таким разграничением судебного контроля и прокурорского надзора, который позволит, с одной стороны, обеспечить эффективную защиту как индивидуальных, так и публичных интересов, а с другой стороны - избежать никому не нужного «конфликта компетенций» между судом и прокуратурой.
[1] Подготовлено специально для II Экспертного форума БДИПЧ ОБСЕ по уголовному правосудию для Центральной Азии (15-17 октября 2009 г., Иссык-Куль, Кыргызстан). [2] В некоторых случаях государство может, исходя из соображений целесообразности, поручать, например, полномочие инициирования уголовного преследования и поддержания обвинения не прокуратуре, а каким-то иным администрациям (скажем, налоговой службе). Однако, это не приводит к появлению «новых функций» - администрация (налоговая служба) просто-напросто будет в данном случае выполнять «прокурорские» по своей природе функции, которые следует понимать сущностно, а не формально. Та же логика существует и в полицейской деятельности. Однако, она не применима к судебным функциям в силу особых институциональных требований к статусу суда, что и объясняет наличие принципа «осуществления правосудия только судом». [3] Институт полицейского задержания, будучи в сравнительно-правовом смысле неизбежен и универсален, по-разному терминологически обозначается в разных процессуальных системах (росс. «задержание»; англ. «police detention»; франц. «garde-à-vue»). Его, разумеется, не следует путать с длительным заключением под стражу, имеющим уже не полицейскую, а судебную природу. [4] Исключения, которые могут здесь иметь место, всегда являются сугубо техническими, но не принципиальными. К такого рода «техническим исключениям» часто относится право полиции на личный обыск или обыск автомобиля при задержании и т. д. Однако, все эти исключения должны также быть обставлены судебными гарантиями. Разница лишь в том, что судебные гарантии превращаются здесь из гарантий «предварительных» (a priori) в гарантии «последующие» (a posteriori). [5] С официальной уголовно-правовой оценкой деяния, включающей его квалификацию с точки зрения норм уголовного закона, не следует путать так называемую «гипотетическую» или предварительную оценку деяния (в качестве преступного). Разница здесь в том, что гипотетическая оценка не отражается в официальных процессуальных актах, определяющих движение уголовного дела, и не имеет ни малейших правовых и процессуальных последствий, в том числе с точки зрения ограничения прав личности. [6] Речь, разумеется, идет о сугубо «технической» экспертизе, не сопряженной, скажем, с помещением обвиняемого в психиатрический или медицинский стационар. [7] Единственным исключением, разумеется, является кратковременное полицейское задержание, о чем см. выше. [8] См., например, § 162 УПК Германии (о процедуре производства данного судебно-следственного действия см. § 168а УПК Германии). [9] Об этом процессуальном понятии см., например: Рекомендация Комитета министров Совета Европы (2005) 10 от 20 апреля 2005 года о специальных средствах расследования в связи с совершением опасных преступлений, включая терроризм. [10] Поскольку оперативно-розыскная деятельность имеет, как известно, негласный (конфиденциальный) характер, судебный контроль a posteriori не может иметь здесь форму традиционного «обжалования» (лицо просто не знает о применении в его отношении соответствующих мер), приобретая существенную специфику. Он проявляется в том, что: а) либо дело рано или поздно поступает с обвинением в суд, который контролирует законность оперативно-розыскных мероприятий (недопустимость доказательств и т. д.); б) либо, если дело в суд так и не поступает (нет оснований для обвинения), лицо по истечении определенного срока уведомляется о произведенных в его отношении мероприятиях, вправе требовать уничтожения соответствующих документов, возмещения вреда и т. д. (здесь уже возможны разнообразные формы судебного вмешательства, в том числе по жалобам заинтересованного лица). [11] Скажем, с точки зрения современных стандартов, специальное видеонаблюдение (фотосъемка) за человеком, гуляющим по городу, есть вторжение в сферу личной жизни, требующее предварительного судебного решения, а, допустим, понятие «жилище» включает не только дом или квартиру, но и частный офис компании и т. д. При этом объем защищаемых ценностей является категорией не статической (раз и навсегда установленной), но динамической, подлежащей постоянной переоценке. [12] Континентальное понятие «магистратуры» не следует путать с англосаксонским понятием «магистрата» - судьи нижестоящего суда. [13] Ниже мы используем обобщение соответствующих эмпирических данных, сделанное на основании анализа национального законодательства стран Совета Европы и содержащееся в работе: Klemencic G. Review of the «Law on Operative-Investigative Activities» of the Republic of Armenia. Council of Europe. 26 October 2006. P. 6 - 8 (рукопись). [14] Здесь идет речь исключительно о следственных действиях, направленных на получение доказательств, но не о мерах процессуального принуждения. [15] Надо учитывать, что некоторые правовые системы такой контроль не допускают вовсе. [16] В большинстве стран данное действие полностью запрещено. [17] См. ст. 126 УПК Молдовы, ст. 183 УПК России, ст. 178 УПК Украины.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |